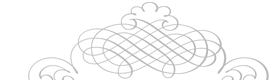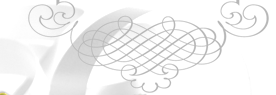4
- А какая она, Москва? – Шурка сидел за столом и во все глаза смотрел на отца.
Тот весело рассказывал, как живётся-работается ему в столице, какой завод большой, как получил он комнату в бараке.
- Москва-то? Большая, сын, пребольшая, все больше каменная. Таких малюсеньких домиков, как у нас в Шафторке, нет – дома все большущие, до неба доходят. Да что я тебе говорю, завтра вот поедем, всё сам и увидишь. А ты как тут живёшь?
- Он у нас теперь гармонистом стал, - посмеивается в фартук бабушка Варя. Улыбается, а глаза грустные.
- Это как же, мать? Неужто правда, Аннушка?
Мама не скрывает счастливой улыбки. Она так долго ждала мужниного возвращения. Часто по вечерам сидела около дома с сыном и рассказывала, как папка приедет, как заберёт их к себе, как они будут счастливо жить-поживать всей семьей.
Только бабушка всё больше вздыхала, хотя внук приставал к ней:
- Неужто ты с нами не поедешь?
- А дом я на кого спокину? Ты будешь навещать меня, а я тебя ждать стану. Аль не приедешь ко мне?
- Ты что, бабунь? Как соскучусь, так и буду к тебе проситься.
- Правда, Петя, нравится ему гармонь. Мечта у него зародилась: свою гармонь заиметь, а не просить её у Вани однорукого.
- Это он тебя выучил? – обернулся к Шурке отец. – Славный парень, умственный.
- Он всё ко мне пристаёт: скажи, мол, чего это вас Шумкиными прозывают, - пьёт молоко Шурка.
- У нас в Шафторке никто без прозвищ не жил ещё. А мы испокон века Шумкины, - бабушка так и не убирает от глаз фартук. – Мне ещё моя бабушка рассказывала, что прозвали нас так по большой семье. Детей было – куча мала. Куда ни глянь, везде ребячьи головы торчали. Шума в доме не пробиться, а как подросли, все такие громко говорливые стали, а уж когда праздник случался, вся округа приходила наши песни послушать. Вот так мы Шумкиными и стали.
Наутро к дому подкатила полуторка. Кабинка фанерная, кузов во многих местах в щербинках – деревянные доски кое-где потрескались и отвалились. Зато едет, до самой Москвы Аверкиных повезёт.
Шурку подняли с постели последним. Узлы с нехитрым скарбом давно у переднего борта сложили, как раз у маленького окошка, что в кабине на задней стенке проделано. Около него и уселся Шурка. Отец рядом, а мама в кабине около шофёра.
- Ну, что, трогаемся? – вскричал шофёр.
- Бабунь, ты чего же это плачешь? – приподнялся Шурка. – Мы же с тобой договорились.
- С Богом езжай, - перекрестила сына и семью его старушка. – За дом не тужите, сберегу его.
Не понравилась Москва Шурке, ох как не понравилась. Ромашками и колокольчиками тут не пахнет. Петухи по утрам уши не щекотят. Простора, как в Шафторке, нет – везде, куда ни глянь, дома, дома, дома. И комната в бараке не пришлась по вкусу. Три шага в ширину да четыре в длину. Кровать стоит, стол с табуреткой, и вот сундук большущий привезли. На нём мальчишке спать.
Окошко на земле, только одну дорожку каменную и видно. То ли дело в Шафторке! Там окна не на завалинке сидели, а убегали в высоту, к горизонту. Всё видно, как на ладошке. Но здесь другое – мама с папой рядом. По утрам уходят на работу, на заводе они трудятся, а Саше одному приходится время коротать. Но парень-то он терпеливый, с трудовой жилкой. Так отец говорит. Значит, мужик. А мужик завсегда стойкий.
Стойкий-то стойкий, только нет-нет да и взгруснётся. Вспомнится бабушка Варя, Шурка Селиверстов, лисичкин гостинец, Ваня однорукий, и почудится, будто где-то далеко-далеко гармошка всхлипнет.
5
Прижился бы Саша Аверкин в Москве. Дело к этому шло. Родители на заводе работали, а по вечерам все вместе собирались. Мама заваривала пшенную кашу, стряпала нехитрые ржаные лепешки, усаживались за стол и вспоминали бабушку Варю, шафторских.
Отец всегда приговаривал:
- Ты, сын, не серчай, вот разбогатеем немножко и купим тебе гармонь. Играй, сколько душе твоей угодно. Правда, мать?
- Да разве мы утаим от него денег? – откликалась тут же мама. Она прижимала голову сына к груди и начинала бабушкину:
Уж ты сад, ты мой сад,
Сад зелёненький,
Ты почто рано цветёшь, осыпаешься?..
Любил Саша, как пела мама. У нее голос был звонче бабушкиного. У бабушки голос туманом стелился, а у мамы по воздуху прозрачному летел. И так он складно лился, что казалось часто: не в Москве Аверкины, а сидят на завалинке у дома. На улице Троица, окошки берёзовыми ветками убраны, никто на работу не поторопился, все радостные и весёлые, несказанно добрые и приветливые.
Привыкать Саша к Москве стал. Года два или три прошло, как он на полуторке в столицу приехал, вот-вот в школу пойдет. Да не суждено этому было сбыться – война началась. Отечественная, великая.
В один из вечеров военные к Аверкиным постучались, повестку на фронт отцу принесли. Сказали, чтобы утром на призывном пункте был.
Саша вместе с мамой пошли отца провожать. Мать плакала много, да Саша видел, что все женщины в этот день голосили. Страшно ли? Страшно, если каждый только и говорил, что фашист к Москве рвётся.
- Вы здесь не оставайтесь, - наказывал отец матери, - в Шафторку возвращайтесь. Там вместе с бабушкой и проживёте, а война закончится, опять в Москву ко мне приедете.
Так оно и случилось. На поезде до Рязани Аверкины добрались, а потом, где пешком, где на перекладных каких, до деревни и добрались.
Бабушка не нарадуется их возвращению. Домашних дел полно, колхозных не меряно. Одно страшно и тревожно: как там Петя?
- Ты, сынок, поди, в Раньзю сбегать хочешь? Сгоняй, меня недавно твой однорукий видал, спрашивал, как ты.
И Саша сорвался с места, только вернулся домой нерадостный.
- Обидел кто? – спросила тихохонько мама.
- Нет. На гармошке поиграл. Ничегошеньки не забыл.
- А что же куксивый такой?
- Ваня мне гармонь приказал купить. Я ему – а на что? Знаешь, что он ответил? Иди, говорит, работать. Я пойду, только куда?
- Все мужики и парни молодые на войну ушли, - присела рядом бабушка, - а скотину пасти некому. Пойди в подпаски. Правда, у нас говорят: скотину пасти – мать, отца клясти. Но что тут поделаешь, ты парень уже большой, один мужик у нас остался, теперь вся надёга на тебя.
- Я-то в Москву вернусь, - вступилась мать, - мы с бабушкой так решили. Пойду на завод, молотобойцем там меня возьмут. Какие-никакие, а деньги буду зарабатывать. Ты поработаешь. Одно плохо: рано тебе вставать придётся и целый день на ногах, зато миром прокормишься, а как колхозники трудодни получать будут, с тобой и расплатятся. Глядишь, на гармошку хватит.
Хорошо с бабушкой, слов нет, как хорошо, но каково лучше, когда мама рядом. Но – война идёт, немец вот-вот к столице подберётся. Об этом все говорят.
- Ты как же, а если фашист?
- Да не пустят его к Москве. Разве папка наш такое позволит. Осенью я за тобой приеду. Может, бабушка тебя привезёт, там видно будет.
На том и порешили. Наутро мама в дорогу отправилась, а следующим днем, ранним утром вернее, Саша Аверкин через плечо кнут повесил. Дед Егор, что всю жизнь свою стадо пас, постучал кнутовищем в окошко к Аверкиным.
- Ты погоди, Егорушко, чуток, не подниму работника, - прокричала бабушка Варя. Разбудила всё-таки. Сунула в карман бутылку с молоком.
- В обед придёт кто-то, еду принесёт. Голодным не останешься.
Стадо хоть и не большеньким было – коров штук пятьдесят, овечьей мелочи немеряно, козы редкие, дедом Егором к порядку приучено, а всё равно стоять на месте не давало. То одна корова в кусты норовит, то другая к колхозному полю потянется – не деду же за ними бегать. Вот и наводит порядок Шурка.
- Ты, парень, на жизть не серчай, - сидит на пригорке дед Егор, - кому сейчас сладко. Война, а ты вон свой кусок зарабатываешь.
- Неужто и взаправду фашист нас осилит? – обратился подпасок к деду Егору.
- Что ты, что ты, малец! Али ты не знаешь, как в наших местах народился богатырь святорусский?
- Эт ты о ком?
- О Добрыне Никитиче. Был такой, давно-предавно в наших местах жил, с басурманами сражался. А с ним другие богатыри. Самого Соловья-разбойника полонили!
- Так это же богатыри, - сомневается Шурка. – Теперь-то их нет.
- Как нет? А что – твой батя али не богатырь? Да разве он за тебя фашиста поганого не побьёт? Ох, как ещё побьет! Неужто на нашу красоту их пустим?
А красота она вот совсем рядом. С бугорка вон тропинка среди кудрявой травы вьется. Родничок из-под земли губки надувает и пенится. Черемуха ягоды-сережки почти до земли свесила. Жаворонок, несмотря на полуденную жару, поёт себе во славу. Да только ли он поёт? Земля дышит и голосом наполняется, будто бабушка вечером перед образами молится.
Сколько Шурка вслушивался в этот голос, а только и мог разобрать:
- Владычица моя, заступница Божья Матушка.
Дальше бабушка переходила на шёпот, и не разобрать было, что она говорила, чего просила, обращаясь к Божьей Матушке.
- Видишь, сынок, и обед к нам подоспел.
На этот раз обедом кормить пастухов выпало соседке Аверкиных тетке Марье. Она принесла два кошеля. Расстелила на мураву полотенце, выложила краюху хлеба, квас поставила, лук, яйца достала и пригласила Шурку с дедом Егором. Те ели, тётку Марью похваливали и вели обрывистые разговоры. О чём бы речь не вели, всё сводилось к войне.
6
Лето так и пролетело. Уставал Шурка в подпасках ужас как, зато столько разного насмотрелся – нарадоваться не может. Закаты его и восходы тоже. Дожди да грозы родными стали, а широкие раздолья только глаза радовали.
Как только первый снежок упал, бабушка Варя вместе с Шуркой его заработанный мешок ржаного зерна на подводу положили. Бабы с ребятишками на дроги поселись. Кто куриные яйца, кто лук, морковь на базар везёт. Усаживаются поудобнее, над Варварой подсмеиваются:
- Совсем наша Варюшка с ума посходила. Мы за солью, сахаром в Поляну Зубову отправляемся, а она решила хлеб, бабы, понимаете – хлеб! - на гармонь променять.
- Ты садись, внучок. Язык у них без костей, вот и гогочут.
-Да ехай ты, - крикнула ездовому, - али так и будешь с открытым ртом стоять, бабьи побасенки слушать?
С базара Шурка счастливым возвращался. Летний труд его радостью окупился. На коленях гармонь. Всамделешная. Его собственная.
А около дома Шурка Селиверстов дожидается. Ему-то что: у него целое лето, как гармонь куплена.
- Ну-ка, показывай, - помогает Шурка Селиверстов дружку своему. – Ух, ты, новехонькая, хромка. Голосистая. Давай испробуем.
Развернул меха Шурка Аверкин, и побежала на проулок плясовая. Да ладная такая, за сердчишко так и хватает. Вцепится и давай его испытывать: откликнется на мелодию или затаится.
Шурка Селивестров свою развернул и приладился к дружковой игре. Вот уж здорово так зазвучало.
- Ты когда это наловчился? – спрашивает Шурка Аверкин.
- Пока ты по Москвам прогуливался, я и научился. Ну, как?
- Спрашивай ещё!
Бабушка Варя стоит, головой покачивает и на соседок смотрит. А те одна по одной весь дом облепили. Слушают – не наслушаются.
- Куда тебе однорукий, он и рядом-то не стоял.
Керосиновая лампа то в одном доме вспыхнет, то в другом слеповато загорится. Кое-где и вовсе коптюшки зажгут. Мимо дома Аверкиных то одна девка пробежит, то стайкой засмеются.
- Ты чего же, гармонист, сидишь? Аль не видишь, как девки вырядились?
- А чего они, бабунь?
- Как чего? Ты кто теперь? Гармонист. Уважь девок-то.
- Так война же. Какая игра теперь?
- Что же, нам всем только и плакать остается. Только и знаем, что работаем за семерых да слёзы роняем. Ты пойди, повесели девок.
Разыгрался Шурка на родной завалинке. Народу пришло – вся деревня, как есть вся. Кто слушает, кто приплясывает, а самые бойкие на бряночку встали.
Я милёнка провожала,
Говорила: «Не скучай,
Бей фашистов без пощады
И героем приезжай».
Ой, подруженька моя,
Мой миленок на войне,
За него и за себя
Я работаю вдвойне.
- Да ну вас к лешему, всё война да война, - вскрикнула соседка Аверкиных тетка Марья, что первой кормила обедом подпаска. –
Давай-ка, Шурка, мы с тобой.
Ой, какой же ты нахал!
Но я уступаю,
Эту ночку до утра
Я с тобой гуляю.
С того дня немало времени прошло, а мама так и не ехала за сыном в Шафторку. А тут весточку прислала. Пишет бабушке, чтобы сама приезжала в Москву, её с работы не отпускают. Сыну же в школу пора.
Куда денешься? Собрала Варвара узелок в дорогу, гармонь взяла и отправилась с внуком в столицу. Соседям только наказала за домом посматривать да скотину кормить.
Добрались, доехали с грехом пополам. Дверь в комнатёнку барачную отворили и остолбенели: сидит на кровати Аннушка, белее муки пшеничной, а перед ней синеватая бумажка лежит.
Варвара сразу поняла – похоронка. Так по дверному косяку и съехала на порожек.
Стоит Шурка, то на мать, то на бабушку посматривает и в толк взять не может, что же это такое произошло.
Погляди-ко, желанный сын:
Меж ногами-ти сирота сидит…
Никогда Шура Аверкин не слышал столько слёз в бабушкином голосе. Всякое было, но чтобы бабушка не столько пела, сколько плакала, такого не бывало.
Уж как век того не водится,
Что из мертвых живы становятся,
На военной на страшной работушке
Он истратил свою силушку,
Погубил свою головушку…
Ты смотри-ка, сын мой Петенька,
Кто промеж ног сидит.
Сидит сиротинушка…
- Бабунь, ты чего? Люди же кругом, - жмётся к бабушке Шурка.
- У людей тоже горя немеряно. Ты и дверь на засов, и окна на запирку, а оно через трубу влетит. Вот оно, горе-то какое, милый.
- Мам, а мам, вставай, это мы из Шафторки приехали.
- Вот и хорошо, вот и хорошо, - поднялась с кровати Анна. Похоронку забрала да за божничку бережно положила. – Ты запомни, сынок: женщина у нас в обнимку со слезами ходит, а ей так радости хочется. Вырастишь, вспомни мои слова.
И ведь вспомнил Саша мамины слова, и бабушкины не забыл, да всех шафторских, побитых жизнью женщин, но стойких. Не забыл и пустил гулять по белу свету наказ свой:
Подарите женщине любовь,
Доброты и ласки не жалея.
Подарите женщине любовь,
От любви она молодеет…
7
Довольно с того дня времени прошло. Каждое лето Шура Аверкин в Шафторку уезжал, жил с бабушкой Варварой, в подпасках ходил. Вечерами около него девчата табуном хороводились. Иногда он в Ряньзю бегал, сидели с Ваней одноруким, а чаще с ним на гармошках играли. А главное – война закончилась.
Мама так и работала кузнецом на заводе.
- Ох, девка, сгубишь ты себя. Бабье ли это дело – кузнецом-то быть, - часто говорила свекровь. Анна только улыбалась:
- Нам кусок хлеба отродясь через упирание даётся. Это всё стерпится. Меня другое беспокоит: парень у нас хороший растёт, всё нормально, нормально идёт, а иногда встанет, задумается, и будто нет его. Как это, матушка?
- Кому что на роду написано. Одно тебе шепну на ушко, а ты поверь: не заменит он тебя у молота. Господь ему другую дорогу указывает.
В эту осень Саша Аверкин один без бабушки в Москву возвернулся.
Осенним утром на тропинке ему парень встретился. Коренастый, остроглазый.
- Слушай, а кто это у вас в бараке так ладно на гармошке играет?
- Я и играю, - ответил ему Саша Аверкин.
- Правда, что ли?
- Мне что за интерес врать?
- А вот прямо при мне сыграть сможешь?
- Пошли.
Саша привел незнакомца в свою крохотную комнатушку.
- Это как же вы тут живёте?
- Нам с мамой хватает.
Достал из-под кровати гармонь.
- О, хромка, - погладил меха парень.
- Она. Знаешь, какая душевная. Такой нигде не было. Она сама играет, я только чуток ей помогаю.
Саша заиграл. Деревенское играл, веселое, грустное.
- А ты что так интересуешься? Тоже играешь?
- Учусь. На баяне учусь играть, в училище.
- А мне тоже баян по душе, только ни одной ноты не знаю, а самоучку такой инструмент к себе не подпустит. Играть, так хорошо, а кое-как – это не по-людски.
- Так давай к нам в музыкальную школу. Знаешь, какие у нас преподаватели.
- Сказанул: давай к нам. Там что – вот так с улицы всех и берут?
- Я попрошу, уговорю.
- Уговорю… Да мы с тобой толком и не познакомились. Я Саша Аверкин.
- А я Витя Темнов. Ну, что, по рукам? Я вон в том бараке живу. А сейчас во Дворец культуры пробираюсь. Там знаешь кто обосновался? Ансамбль «Берёзка».
- Не слыхал.
- Вот деревня. Лучший танцевальный коллектив в Союзе, а оркестр у них – словом не опишешь. А как в оркестре баянисты играют… Вот я украдкой их слушаю. Пошли со мной.
А через день Витя Темнов прибежал за Сашей Аверкиным, и с порога сразу:
- Давай живее! Тебя преподаватели ждут.
Бегут два парня. У одного баян за плечами, у другого – гармошка. Бегут, друг над другом сколозубничают, и ни прохожие, что дорожку уступают, ни они сами не знают: в сторону музыкальной школы торопятся будущие великие композиторы. Песнями их скоро заслушается вся страна. То возрадуется, то встревожится, то успокоится.
Только это уже совсем другое повествование.
|